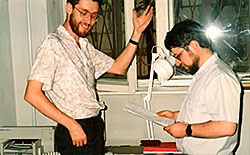На конференции, 2005 г.

«Последний звонок», 2004 г.

Май 1993 г.

С Майклом Барбером в школьной мастерской, 2003 г.
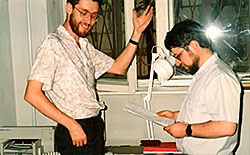
В кабинете с Михаилом Случом, середина 90-х гг.

Первое сентября, 2003 г.

На школьном празднике, 2002 г.

«Скрипач на крыше», 2000 г.

«Скрипач на крыше», 2000 г.

«Скрипач на крыше», 2000 г.

Выпускной 2004г.

Первое сентября, 2005 г.

С коллегами в школе, начало 90-х гг.

С дочерьми Аней и Зоей, конец 90-х гг. |

В Нью-Йорке, лето 2006 г. |

«Дона», Москва, 2006г. |

В школе, начало 2000-х гг. |
|

Примерно с конца 1986 г. <…> я начал изучать труды Рудольфа Штейнера: его философию и гносеологию, работы, посвящённые эволюции и его взглядам на человека, – короче говоря, всё то, что часто называют эзотерическими работами. А поскольку Штейнер фактически разворачивал парадигму познания, которую начал создавать Гёте, то я начал изучать и труды Гёте. Через пару лет я познакомился с московскими и зарубежными антропософами, и в том числе с вальдорфскими педагогами. <…>
В образовательной жизни то время действительно было временем обновления, стремлений к новому и поисков нового. И люди, уловившие этот импульс, каждый на своем месте и в своей должности, в принципе позитивно реагировали на него; рискну даже сказать, что этот импульс образовал некое тонкое, неуловимое чувство общности у самых разных людей, знакомых и незнакомых, встречавшихся и расходившихся, но участвовавших в тогдашней большой попытке обновления российской школы. Подчеркну, что тогда, встречаясь и работая с «чиновниками от образования» (это слово не имеет для меня заведомо отрицательной окраски), я то и дело замечал, что на идею вальдорфской школы они реагируют не только и не столько как чиновники, сколько как педагоги, им это было интересно. И совсем простая и очевидная мысль: думаю, каждый согласится, что сейчас подобной вещи повторить бы уже не удалось. Время изменилось.
Мы пытались перевести вальдорфскую педагогику с немецкого на русский. То есть адаптировать её к ситуации. Это похоже на перевод стихов, многие говорят (даже теории есть), что стихи переводить невозможно. Конечно, можно читать их в оригинале: «Ди Зоне тонт нах альтервайсе»… Но мало кто будет понимать… Мы попытались перевести.
Что-то сохранилось «от подстрочника», что-то «написано заново».
Сохранились два языка, сохранилась особая роль искусства. Сохранилась фигура «классного учителя» и особая стилистика, технология учительского труда (много собственного творчества, много риска, много самостоятельности).
Но что главное? Исследования «скул эффективнес» ставили вопрос: от чего та или иная школа является «хорошей»? Финансирование? Число учеников в классе? Уровень сложности стандарта и программ? Оказалось, «не то мерили». Главное в школе (Мортимор) – ЭТОС. То, что мы называли «атмосферой». Нам удалось создать эту атмосферу и именно здесь найти своё лицо. Из чего вырастает эта атмосфера школы и тот самый ЭТОС? Из отношения к ребёнку.
«К истории Московской Свободной вальдорфской школы»
Интервью журналу «Кентавр» (1991, № 2)

… Когда я только собирался прийти на методологический семинар, у меня состоялся разговор с Георгием Петровичем [Щедровицким], где он сказал мне: «Толя, у вас есть три пути – стать философом, педагогом или методологом». Я тогда ответил, что уж кем я точно не стану, так это педагогом, поскольку это самое плоское, мёртвое и бессмысленное дело. Для меня это было хуже, чем служба в ОБХСС. Но когда я встретился с вальдорфскими педагогами, это была как бы встреча с чудом. И не просто потому, что у них есть очень интересная философия детства и чрезвычайно любопытная гносеология, а потому, что я столкнулся с очень живой и серьёзной практической педагогикой. Я как бы натолкнулся на живое зёрнышко в самом, казалось бы, мёртвом месте. Я увидел людей с очень своеобразным, сильным и живым способом мышления. Можно сказать, что то, что я искал в методологии – самобытное, новое и цельное, универсальное мышление, – я нашёл у вальдорфцев, но на (во многом) отличающихся основаниях. Это мышление не понятийное, а феноменологическое и образное. А сходство в том, что в обоих случаях мы видим попытку (а в случае с вальдорфцами уже во многом реализованную) органически связать мышление и познание с практическим действием.
«То, что я искал в методологии, я нашёл у вальдорфцев»
Интервью журналу «Кентавр» (1991, № 2)

…Многочисленные и разные по масштабу попытки действительного обновления школы и педагогики (которые, по сути, и выражают стремление, пусть неосознанное, к этой новой парадигме) пока не осмыслили себя как нечто единое и цельное… На наш взгляд, главная причина этого – катастрофически низкая степень интеграции педагогического мышления с духовно-культурным сознанием прошлого и современности. И это очень серьёзно, ибо речь идёт не о кафедральных академически-философских штучках, а о стилях, содержаниях, интенциях и ценностях мышления и культуры человечества, о контекстах его настоящего и будущего…
Мы, образовательная интеллигенция, готовы сейчас заниматься чем угодно (предпринимательством, нормотворчеством, строительством, бюджетной политикой и т. д.) – вместо того, чтобы выполнять своё прямое и единственное назначение – понимать реальность, вносить в неё смысл, видеть целое и мягко намечать возможные перспективы.
«К новой парадигме в образовании» (1997)

Когда мы начинали вальдорфскую школу, на меня обрушилась масса нового и непонятного, приходилось работать по 17–18 часов в сутки. Была мечта отоспаться, но было так интересно, что про всё забывал. Сегодня с «модернизацией» так же. Я вижу, что она способна упорядочить те глупости и логические нестыковки, которые накопились в нашем образовании. Исак Фрумин часто говорит мне: «Толик, девяносто процентов своего времени ты тратишь на борьбу с энтропией». Но мне безумно интересно работать.
Интервью «Быть для министра “Илларионовым”» (2003)

… Вальдорфская педагогика выражает стремление к образовательной форме общечеловеческого культурного экуменизма, она содержит в себе предпосылки педагогики духовно-культурной реинтеграции будущего. Вальдорфская школа кардинально отличается от технократической школы индустриального общества, в том числе и от «обычной» нынешней массовой школы, не «главным уроком» и не «преподаванием по эпохам» (конечно, эти технологии отработаны, и нет нужды менять их без особых оснований, внутренних или внешних), но тем, что она несёт в себе альтернативную интерпретацию материалистической научной парадигмы, целостное (интегральное, холистическое) отношение к природе, культуре и человеку.
«К истории Московской Свободной вальдорфской школы» (1997)

Образование, призванное интегрировать культуру, быть как минимум её транслятором и даже, может быть, фактором развития, может оказаться маргиналией культуры! <...>
Нынешнее положение дел – это ситуация развилки. Либо просто возобладает реакция и всё новое будет тормозиться, страдать и увядать (после чего аттестации и стандартизации благополучно восстановят системность на базе «единой гуманистической российской школы» с дозволенным процентом гимназий и лицеев по каждому региону и учебниками по выбору), либо инновационное движение родит новую образовательную парадигму. Ситуация беременна новой парадигмой.
Очевидно, однако, что никто не может сесть сегодня за кульман и начертить эту новую парадигму в трёх проекциях. Но она может родиться, кристаллизоваться из некоего духовно-мыслительного, культурно-смыслового раствора, контекста. Может быть, одна из важных задач состоит в том, чтобы удерживать этот контекст и постоянно обогащать, насыщать его, «смыслонаполнять» (во-первых, во внутренней индивидуальной интуиции и, во-вторых, во множественном диалоге и коммуникации) – именно сегодня, когда культура на рубеже тысячелетий переходит в радикально новое состояние…
Но от одного тезиса, точнее даже – от одного слова, не могу удержаться. Это слово – «мягкость». Какой бы ни сложилась за десять или сто лет эта новая образовательная парадигма, я полагаю, что одним из главных качеств её мыслей и стиля будет именно вот это качество: мягкий традиционализм и мягкая проектность, мягкая рациональность и мягкие технологии, мягкий педоцентризм и мягкий диалогизм. Может быть, одна из весьма печальных и тревожных особенностей нашего времени проявляется в том, что самое употребительное слово сегодня <…> – это слово «жёсткий».
«К новой парадигме в образовании» (1997)

Перспектива школы состоит в том, чтобы наш выпускник, размышляя о своей школе, отвечал не на вопрос «Какое образование они мне дали?», но «Какое образование я у них взял?».
«Образование свободы и несвобода образования» (2001)

Вопросы, на которые предстоит ответить
Конечно, наша душа всегда спрашивает: всё это очень хорошо, а вот что делать? Я был немного готов к этому вопросу, и, мне представляется, здесь можно ответить только одно: может быть, следовало бы попытаться встречаться.
Повторяю: встречаться, встречаться и встречаться. Чтобы люди могли вместе собираться и между ними звучало бы простое свободное слово, пусть иногда корявое, пусть спорное, но живое и свободное, заинтересованное. Это очень серьёзная проблема, ведь сейчас жизнь так устроена, что действуют подавляющие всё и вся силы дезинтеграции. И это очень трудно получается. Есть ли в обществе какой-то ресурс, есть ли достаточная степень терпимости, чтобы уживаться с очень разными людьми, с разными идеями и ценностями? Это познавательный вопрос, мы не можем этот ресурс сконструировать. Интересно хотя бы понять. <…>
А реально это или нет – непростой вопрос, это вопрос, живёт ли сейчас между нами вот этот свободный и гармоничный дух. Я не знаю.
«Образование на пороге ХХI века (некоторые вопросы)» (1996)
|